или
Трещины во всём
Подкаст
из серии
Подлинная Жизнь

Фотография: Sveta Minaeva.
Если вы хотите скачать этот подкаст, кликните сюда
Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.
-Leonard Cohen
***
Звони в колокол,
Который может звенеть.
Забудь о совершенстве.
Есть трещины, трещины во всём –
Сквозь них проходит свет.
-Леонард Коэн
Сегодняшний подкаст необычный. Это разговор со мной.
Нет, это не “тихо сам с собою я веду беседу”, это со мною ведёт беседу моя добрая подруга, журналист Елена Олешкевич.
Да, вопросы здесь задаёт Лена, а правильно заданный вопрос, всегда направляет разговор в нужное русло.
А ещё сегодняшний подкаст необычен тем, что к нему прилагается текст (или наоборот, к тексту прилагается подкаст). Лена провела большую работу, не только расшифровав аудиозапись, но и превратив её в читаемый текст. Хотя в предисловии она и говорит, что это почти дословно расшифрованный разговор, это всё же не так, ибо устная речь и написанный текст – “это две большие разницы” и Лена смогла удачно перевести один жанр в другой.
В общем, читайте или слушайте – как вам удобнее.
Лена Олешкевич – журналист, сценарист, редактор. Автор проекта “Интегральный подход к написанию текстов”, в котором ремесленные писательские приёмы соединяются с телесной работой и практиками внимательности.
Её страница в фейсбуке:
Elena Oleshkevich
Её недавняя статья в The Village о практике осознанности и секулярной медитации:
Спокойствие, только спокойствие

Фотография: Kseniya Shpakova.
Я долго готовилась к этому разговору. Всё началось ещё полтора года назад, когда я впервые услышала Валеру в рубрике “Подлинная жизнь”, где он вдумчиво беседовал с гостями своего проекта “Будда в городе”.
Мне понравилось: непридуманные вопросы, редкая в публичной беседе живая внимательность, какая-то особая интонация разговора, от которой рождалось много интересных мыслей. И правильное послевкусие.
От хорошей беседы оно длится особенно долго.
Ещё тогда я подумала: как несправедливо – Валера со всеми разговаривает про подлинную жизнь, а с ним – никто! И вот какими-то неведомыми путями мы познакомились, сдружились и поговорили. И даже не единожды.
Перед вами почти дословно расшифрованный разговор с Валерой – про дзэн и то, что им не является, про несовершенство жизни, про непорядок без хаоса, про трещины в каждом из нас, через которые проходит свет. Мы беседовали почти два часа, и вот уже долгое время после разговора я обнаруживаю в себе ощущение: всё хорошо.
Вот так – фундаментально, без скидок – всё хорошо. В моей жизни и вообще.
И хотя это слово, кажется, ни разу не прозвучало в нашей беседе, для меня это был разговор про веру. Очень своевременный и важный.
-Елена Олешкевич
Если вы хотите скачать этот подкаст, кликните сюда

Фотография: Annie Petrosian.
Про несовершенство
И только тогда он считал свою работу завершённой.
В результате эти склеенные чаши ценились даже больше, чем целые.
С точки зрения западного сознания это почти безумие. Но вот и Леонард Коэн тоже поёт о трещинах, без которых никуда: “There is a crack in everything. That’s how the light gets in”.
Что это за трещины такие? И почему, когда их нет, когда всё идеально, дзэн-мастер делает их специально?
В. В. (Валерий Веряскин): Мне близко такое видение, как и вообще дзэн-подход к жизни. Через эту метафору мне сообщается нечто ценное о её устройстве. То, о чём пел Коэн: жизнь несовершенна. И дальше возникает вопрос: что мне делать с этим несовершенством?
Один способ – восставать против этого, бороться, стараться всё делать совершенно… Но каждый раз я сталкиваюсь с невозможностью этого, потому что это не то, что можно изменить. Скажем, социальную систему мы можем потихоньку менять, а вот глобальное устройство жизни – как его изменишь?
В этой истории мастер делал чашки и все они были одинаковые, но одна разбилась, ему стало жаль её, он склеил черепки, и в этом выразилась её уникальность. Если разбить вторую чашку, она разобьётся по-другому и склеишь ты её по-другому.
Мне кажется, в этом отражено основное устройство жизни: нет никакого совершенства, не может быть, всегда есть какие-то трещины в реальности, неровности, то, что ты не можешь учесть, и это вроде как неидеальность. Важно научиться с этим жить.
Большинство людей хотят как-то улучшить и исправить себя и свою жизнь, залечить свои травмы. Можно сказать, что это те самые трещины: чашка твоей жизни разбивалась много раз, твоё сердце разбивалось много раз, в нём много трещин. Искусство психотерапии и духовная практика, если они исцеляют, – это о том, как склеить это разбитое состояние.
То, что мы часто считаем своими недостатками, своими грехами, своей болью, – это, в том числе, выражение нашей индивидуальности. Когда мы проходим через процесс исцеления, мы научаемся принимать себя со всеми этими трещинами и видим, что именно через них проявляется свет.
И успокаиваемся: о’кей, в жизни много боли, много травм – это неизбежно. Но как мне научиться с этим жить и как превратить это в функциональный предмет? Ведь в чашку мы наливаем чай и пьём из нее. Если я склеил себя, я могу чай в этой “чашке” поднести, например, своему другу, чтобы он увидел её красоту и уникальность.
Вот что для меня звучит в этой метафоре.

Фотография: Sveta Minaeva.
За чистоту zen
Например, мне недавно подарили книгу “Дзэн в искусстве написания книг” Брэдбери. Мне в ней по душе многие вещи, но к дзэну они, кажется, отношения не имеют. Или сегодня мне попался сервис yandex.zen, из описания которого следует, что он подстраивает ленту новостей под твои запросы (хотя, мне кажется, все подстраивают, но он, наверное, как-то внимательнее это делает?).
Или однажды я разместила пост в сообществе, которое ты создал, – “Облачная Сангха” – и написала там: “Хочется поделиться красивым фильмом, и вы тоже сюда свои любимые дзэн-фильмы выкладывайте”.
Собралась совершенно дивная подборка, которую ты справедливо прокомментировал, мол, фильмы классные, но, товарищи, почему вы это всё называете дзэном?
И я вот задумалась: а действительно, почему? Что мы называем дзэном сегодня и что такое аутентичный дзэн?
В. В.: Понятно, что какие-то слова становятся клише, то же самое происходило и происходит со словом “медитация”. С одной стороны, “медитация” – латинское слово, обозначающее размышление, но мы называем сейчас медитацией процесс созерцания, который на Востоке не подразумевает размышления в рациональном смысле.
Или слово “нирвана” – никто не знает, что это такое, и называют этим всё подряд: “человек в нирване”, рок-группа Nirvana…
То есть берутся какие-то термины из традиций и потом это становится клише, которое обозначает всё что угодно.
У каждого свои отношения со словами. Для меня это дорого, как путь, и часто вольные обращения меня несколько раздражают. Но в любом случае мы здесь ничего не можем поделать – так происходит в обществе.
Изначально “дзэн” – это японское произношение вариант китайского слова “чань”, а слово “чань”, в свою очередь, – китайское произношение буддистского слова “дхьяна” на пали, которое обозначает ту самую созерцательную практику, которую мы сейчас называем медитацией.
Если мы посмотрим на историю буддизма, то увидим, что, куда бы он ни приходил, он как бы начинался сначала, впитывал учения и традиции конкретной местности и привносил в них свои идеи. Но со временем монашеские общины дистанцировались от жизни обычных людей и стали превращаться в схоластические школы.
Само по себе это хорошо, но это не даёт непосредственного контакта с жизнью.
Так случилось и в пятом веке нашей эры. В это время буддизм процветал в Индии, но, обрастая утончённой и глубокой философией, зачастую уходил от непосредственного переживания жизни.
Тогда Бодхидхарма, легендарный основатель чань-буддизма, придя в Китай, на новую территорию, ещё не очень хорошо освоенную буддизмом, сказал что-то вроде этого: “Ребята, не нужно ваших описаний истины и того, как всё в этом мире устроено. Вот вы садитесь, пожалуйста, перед стеной и смотрите на неё. Девять лет просидите и поймёте, как тут что происходит”.
То есть он вернулся основе, к практике, потому что многие монахи ушли от медитации в разговор, в размышление, в философию.
Поэтому мы можем сказать, что дзэн – это возвращение практики медитации в буддизм. А центральный пункт дзэн – дзадзэн, когда мы просто садимся и сидим.
Ещё один аспект дзэн – это особая эстетика.
Когда дзэн попал в Китай, и особенно в Японию – а ведь это культура, глубоко связаная с эстетикой, – дзэн проник в сферу искусства. Поэтому мы видим, что многие японские поэты – Басё, Сайгё, Исса – практиковали дзэн, и мы также можем назвать их мастерами дзэн, которые практиковали через поэзию.
Есть основные категории японской эстетики – саби, ваби, аваре, – которые во многом выросли из эстетики дзэн. Например, любование сакурой, которая цветёт всего несколько дней, созерцание того, как эти лепестки рождаются и осыпаются, насколько эта красота мимолётна, как она появляется и исчезает.
В таком созерцании есть комплекс чувств, которые мы не можем поместить в одно определение. Это и наполнение красотой, и в то же время оттенок печали, горечи – ведь это исчезает прямо сейчас, у нас на глазах. Но это рассказывает нам о жизни что-то важное. Или как раз то, с чего ты начала, – про чаши и несовершенство.
Ещё одна метафора дзэн – это бонсай, странные, специально изуродованные человеком деревья. Но в них тоже есть определённая красота. Когда смотрят на бонсай, любуются не ветвями, а пространством между ними, смотрят в пустоту между формами. Так что в такой эстетике чрезвычайно важна недосказанность, открытость пространства, пустота, в которую мы всматриваемся.
Исчезающая красота, печаль, сочетание намеренности и случайности – всё это также темы дзэна.
Поэтому, если всё это объединить, мы можем это назвать дзэнским видом искусства. Я сделал у себя в блоге такую рубрику: “Дзэн – искусство дзэн”, где выбираю формы искусства, которые, на мой взгляд, отвечают некоторым из принципов, которые я перечислил.
Но тут уже каждый сам решает для себя, что он называет “дзэн”. Может, и yandex.zen имеет право на существование.
В. В.: Такого медленного человека. (Смеётся.)
Может быть, это от того, что ты живёшь в прекрасном месте рядом с морем, где всё спокойно?
Хотя, свой невроз ведь можно притащить куда угодно, скорее всего, это с чем-то другим связано.
С чем связано твоё качество замедления? Ты всегда такой был? Или ты к этому как-то пришёл? Мне кажется, это не только симпатичное качество, но и чрезвычайно нужное всем нам сегодня, ведь оно позволяет себя сохранить, не раздать себя по кускам.
В. В.: Тут много всего. С одной стороны, это черта моего характера – я действительно всегда был неспешным человеком, даже в каком-то смысле тормознутым. Я не очень быстро соображаю, мне нужно время на “подумать”, время побыть с чем-то.
Но что развилось с годами – принятие этого моего качества. О’кей, я такой.
Потому что я смотрю на других, и они так быстро всё делают, моментально соображают, так вовремя всё говорят, к ним вовремя слова приходят, очень остро, то, что нужно. А мне всегда во время разговора “хорошая мысля приходит опосля”. Поговорили, а потом – ах, надо было вот это сказать…
Но возраст всё-таки помогает – учишься потихоньку принимать себя, как есть, и приспосабливаться к своему образу жизни.
Вот, например, я написал какой-то черновик, он у меня может несколько дней полежать, отстояться. Потом я на него смотрю и что-то добавляю – какие-то новые мысли, что-то там приходит.
Поэтому для меня важны паузы, когда можно подождать – и что-то ещё возникнет. Дать этому прийти. Не торопить, не спешить с этим.
И конечно, то, что я переехал к морю, тоже влияет: здесь более естественный, неспешный ритм жизни, всё недалеко, никуда не нужно ехать часами, всё в доступности нескольких минут.
Это сильно меняет меня.
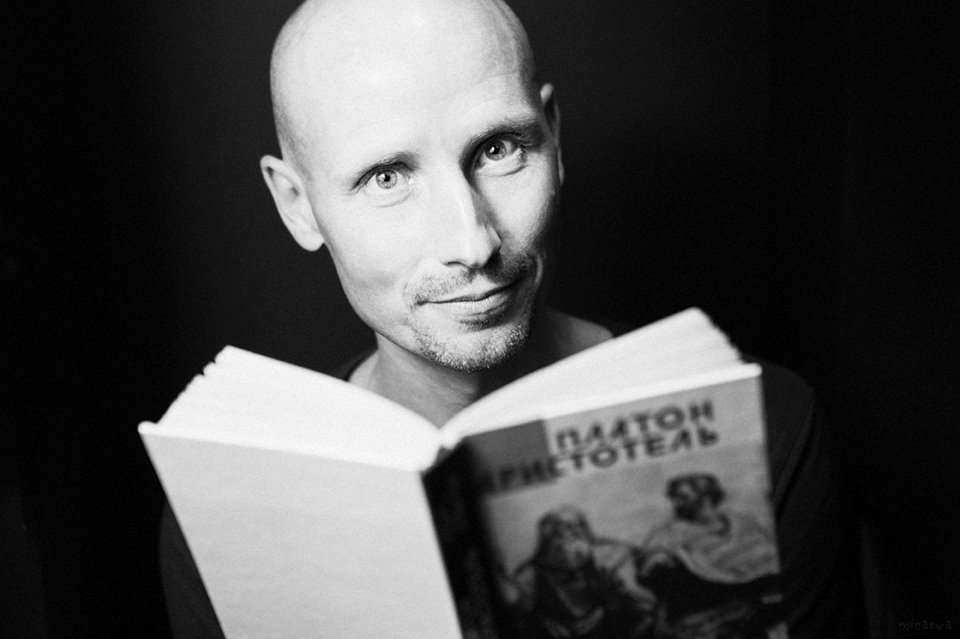
Фотография: Sveta Minaeva.
Про кино
В. В.: Есть два фильма, которые я очень люблю и с героями которых какой-то своей частью соотношусь.
Первый фильм, наверное, самый любимый – “Мертвец” Джармуша. Второй – “Апокалипсис сейчас” Копполы. Там у обоих героев позиция какого-то изумления. Это их состояние внутреннее, что жизнь через них течёт и она может быть странная, брутальная; там постоянно убийства – в “Мертвеце”, а в “Апокалипсисе” – апокалипсис, взрывы, ужасы какие-то. А эти люди – у них состояние созерцания и внутреннего изумления от того, куда они попали: что вообще в этой жизни происходит?
Я замечаю эту часть в себе буквально с детства, но последнее время она занимает достаточно много места внутри: я смотрю на жизнь с удивлением, изумлением. Всё бегает, носится, взрывается вокруг, мельтешит и мечется, а мне просто интересно за этим смотреть.
Кошки, бывает, так смотрят. Сидят и смотрят, как всё происходит, проходит. Просто для меня это органично. Когда жизнь становится слишком быстрой, имеет смысл возвращаться к более созерцательной позиции, хотя бы делать паузы, чтобы побыть не спеша. А потом опять можно гнаться, если нужно, если хочется, если такой характер.
Но паузы, мне кажется, важны для любого человека, для любого характера.
Там режиссёр, которого играет Малкович, ездит по городам Италии и собирает разные истории для своего кино. И вот он приезжает в какой-то прибрежный городок, выходит на пустынный пляж, садится на качели, обдумывает странную историю, которая недавно произошла, и у него внутри постепенно созревает сценарий будущего фильма…
Если бы ты снимал кино как режиссёр, о чём бы оно было и в каком жанре?
В. В.: Мне вообще очень разное кино нравится. В каком-то смысле я киноман, может быть; в последние годы я поотстал от того, что происходит, но раньше я много его смотрел. Мне важно в кино сочетание созерцательности, тех самых принципов, о которых я говорил, – изумления, удивления, некой отстраненности – и в то же время видения абсурдности жизни.
Жизнь абсурдна, потому что вся соткана из противоречий. Особенно то, как люди себя ведут. И выход из этого абсурда для меня – юмор. Если нет юмора, то просто надо застрелиться сразу же или повеситься, потому что как можно это всё переносить?
Юмор как раз является таким предохранительным клапаном, потому что, когда мы замечаем всю странность этой жизни, всю её абсурдность, мы начинаем смеяться – и это такой наш способ с ней соотнестись и её принять. Посмеяться над этим. Это делает нас легче. Делает жизнь легче.
Наверное, мой самый любимый фильм – “Криминальное чтиво” Тарантино. Для меня это идеальное кино. Не знаю, сколько раз я его уже смотрел, потому что это какое-то чистое наслаждение. И вот там очень много всего сочетается из моего образа жизни, взгляда, мозаичности или этакой коллажности, временные куски сложены нелинейно и юмор нелинейный, когда Тарантино бандитов берёт и помещает в ситуацию греческой трагедии. Может быть, всё это ещё сильнее проявлено в его первом фильме “Бешеные псы”. Если бы я снимал, то снимал что-то такое о жизни.
Ну и Джармуш, конечно. Он другой. Там больше созерцательности, медитативности, отстранённости, замедленности, прозрачности. У Джармуша я люблю все фильмы, но особенно ранние и “Мертвеца”, конечно.
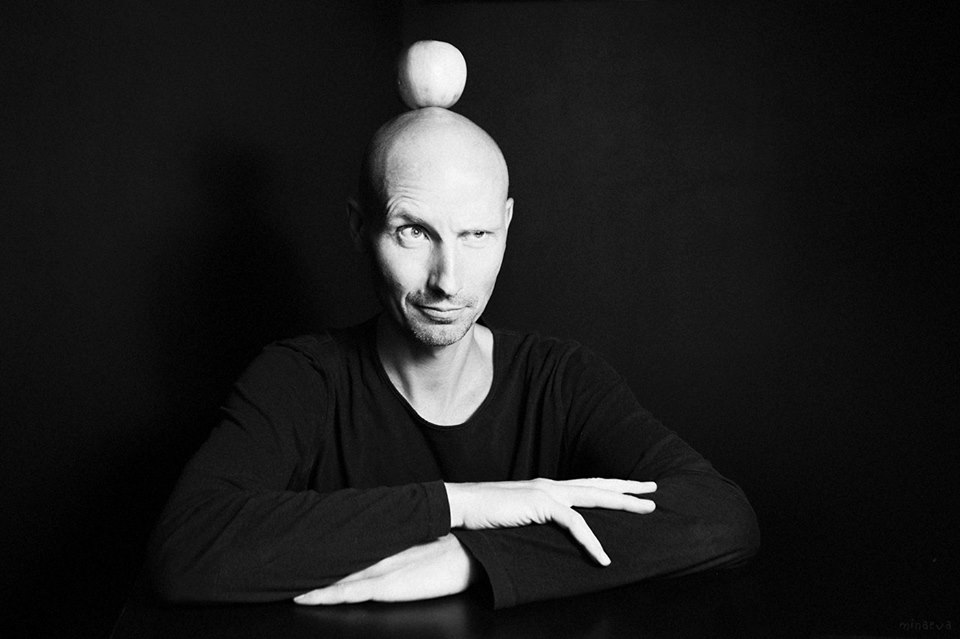
Фотография: Sveta Minaeva.
Про бизнес
Словно бы всё так умно и ладно сделано в нём не потому, что ты очень долго думал, чем тебе в жизни заниматься, ходил на семинары по целеполаганию и маркетингу, составлял портрет своей целевой аудитории. Как будто без всего этого получилось хорошо.
Многие к этому старательно идут, учатся, как создать сообщество, где ты можешь выражать себя честно и при этом быть востребованным, где правильная атмосфера – дружественная, интеллигентная, внимательная, где люди искренне вовлечены в общение. А у тебя как будто всё это получилось само.
Расскажи, как тебе удалось создать такой аутентичный проект?
В. В.: Мне уже немало лет, я прожил какую-то жизнь, и у меня были разные периоды. Я жил с семьёй с детьми, переезжал из страны в страну, проводил тренинги на разные темы – то, что можно условно обозначить как тренинги личностного развития – на протяжении 20 лет.
Это достаточно большой и интенсивный жизненный путь, и я многому научился за это время.
Раньше я страдал, что не учусь на своём опыте, что в какую-то тему вошёл, там освоился, а потом вышел из неё и всё забыл – такое было чувство. А потом я успокоился: самое главное, самое ценное, конечно же, остаётся. Оно остаётся на уровне твоих глубинных реакций, на уровне клеток. Это не какое-то интеллектуальное знание, это знание, которое у тебя в костях, в пальцах, в коже, в крови.
Это и явилось основой – моя жизнь, которую я прожил. Опыт, который у меня есть. Я не могу его отринуть.
А дальше сочетание делания и того, что происходит само.
Греки воспринимали время двумя способами. Они считали, что есть время “хронос” – это то время, которое течёт, обычное время, и “кайрос” – когда приходит удача. Некая волна пришла, и важно её поймать, запрыгнуть на неё.
Как серферы – они сидят и ждут, ждут, ждут.
И вот волна приходит, они запрыгивают на неё и какое-то время на ней катятся.
Это определённое искусство, определённый навык. Тебе не всегда удается на неё запрыгнуть – иногда ты падаешь, ты не каждую волну ловишь, некоторые приходится пропускать. Но если ты достаточно чувствителен – а здесь опять же навык медитации помогает, прислушивание к миру, к себе, интуиция определённая, – то тебе чаще удаётся запрыгнуть на нужную волну.
Когда мы сюда переехали (в Словению. – Прим. Л. О.), у меня происходили разные процессы. Был период трудностей, потерянности, и это естественно, его проходит любой человек. Двадцать лет до этого я проводил тренинги, а потом мне это надоело и я решил: хватит, – и захотел уйти в совершенно другие сферы. Мы открывали магазин с моей девушкой, занимались производством украшений, ещё в Москве.
А потом, уже живя здесь, я начал прислушиваться, что же может быть следующим для меня. И мне подсказала Мадлен: “Может быть, тебе начать блог писать о mindfulness? Смотри, сейчас это тренд в мире. Ты же всё равно давно медитируешь. Что ты без толку медитируешь? Давай, учи людей. Ну, или пиши хотя бы об этом. Это даст тебе энергию, обновление, контакт с ценностями”.
Ну а я всё-таки старорежимный человек, с интернетом очень на “вы”, плюс я раньше ничего не писал в принципе, у меня никогда не было стремления к этому, но всё-таки я прислушался к её словам, начал думать в эту сторону.
И постепенно, шаг за шагом, проект запустился: Мадлен сделала сайт для меня, я начал что-то писать, разослал первые свои посты друзьям и спросил у них: “Ну, как вам это?” И, в общем, получил хороший отклик, а вместе с ним подтверждение от мира, что это нормально, это у кого-то откликается – и значит, я могу развиваться в этом.
А дальше всё это дело начало расти.
Да, конечно, я смотрел, чтобы моё занятие стало и бизнесом тоже, но просто бизнес исключительно ради денег был бы слишком узок для меня. Мне в этом тесно.
Вообще мне не нравится, когда всё отдельно: личная жизнь отдельно, работа отдельно, отдых отдельно, хобби отдельно. Мне нравится, когда у меня всё по максимуму, насколько это возможно, приближено, всё вместе – в одном месте. Тогда я живу цельно. И вся моя жизнь об этом.
Я начал развивать “Будду в городе”, и этот проект стал расти органически, как дерево. И люди, приходившие ко мне, откликались именно на мой специфический взгляд на разные жизненные темы – через призму буддизма, конечно, и всё же очень мой.
И постепенно стало разрастаться сообщество людей, которые сначала просто откликались, что-то комментировали, писали мне личные письма, благодарили, говорили, что вот, мол, твои слова нам помогли.
А дальше я придумал свою первую программу (сборник аудиомедитаций. – Прим. Л. О.). Сейчас у меня большие претензии к качеству аудиоматериалов, поэтому я сделал её бесплатной, но тогда это была первая подобная программа с медитациями на русском языке.
Поначалу я предлагал её за пожертвование, и довольно много людей тогда откликнулось и пришло.
И постепенно вокруг этой программы начала собираться первая группа поддержки. Она ещё не называлась “Облачной Сангхой”, но люди начали обсуждать нюансы практики, а потом всё больше вовлекаться в разные темы, касающиеся не только медитации. Так что это был действительно органичный рост.
Сейчас я вижу, что опять оказался в новом месте. Этот проект уже не тот, что был 4 года назад, и мне опять нужно куда-то идти – в неизвестность. В этом смысле проект не устаревает. Он не может устареть – всё время открывается новое, неизведанное пространство.
И я всё думал: что же всё-таки для меня означает ведение этого проекта? И в какой-то момент я понял, что строю мир. Такая вот скромная задача.
Но если я строю мир, то, во-первых, это долго, это не шесть дней. Наш мир построен за шесть дней – и посмотрите, что это за мир? (Смеётся.)
Я же хочу строить хороший мир, а это долго, это бесконечно, мир строится всё время. Он не останавливается.
Еще одна метафора про проект “Будда в городе” – дерево. Оно ветвится, но какие ветки на нём вырастут и в каких направлениях – я не знаю. Для меня важно поливать своё дерево, и тогда оно будет расти. Важно уделять ему своё внимание, давать ему пространство.
И слово “мир” мне многое объяснило, я как-то успокоился: о’кей, строить мир долго, но чем он хорош – это тем, что в него можно многое вместить.
В нём может быть бизнес-часть, где я зарабатываю деньги, и может быть место, где я разговариваю с людьми: так я сделал подкасты, например, там есть какие-то программы обучающие, есть сообщество – сангха. Всё как в мире или в большом городе – имеются и городская управа, и библиотека, и полиция, и баня, и публичный дом.

Фотография: Madeleine Lamou.
Непорядок без хаоса
И для меня в этом совершенно непостижимый есть порядок. Я хотела бы такого порядка достичь, но для меня это сложно. Ты отчасти уже ответил, что в этом тебе помогает опыт.
Но всё-таки: ты от природы такой аккуратный и дисциплинированный или это с тобой практика сделала? И второй вопрос: как выглядит твой хаос? Как выглядит твой порядок – понятно, а вот в чём твой хаос проявляется?
В. В.: Как раз эта тема для меня является сложной.
Это моя дисциплина, моя практика. Это то, что я стараюсь делать, потому что по природе очень хаотичный человек.
Когда я вёл тренинги, я очень редко повторял программы – для меня просто невыносимо делать что-то регулярно. Медитация из-за этого тоже раньше была сложна для меня.
Мне очень важно какое-то разнообразие в жизни, смена декораций, перемещение в пространстве, важно постоянно находить что-то новое.
Порядок мне скучен, не заводит он меня как-то.
Однако в какой-то момент жизни я ясно увидел, что если уж что-то делать, то это нужно делать на регулярной основе, чтобы был определённый ритм и постоянство – тогда это будет работать, тогда дерево будет приносить плоды. Для меня это достаточно новая тенденция, в каком-то смысле новая практика жизни, которой я стараюсь следовать.
Но всё, конечно, не настолько идеально получается, как ты это описала. Часто у меня возникают ситуации: “надо-надо скорее уже текст доделать, я дотянул до последнего”.
Просто раньше у меня этого хаоса в жизни было куда больше. Раньше я преимущественно работал в краткосрочных программах, по 3-5 дней. Ехал в какой-нибудь город, делал там тренинг, очень интенсивно проживал маленькую жизнь вместе с другими участниками, с глубокой своей вовлечённостью… и потом неделю валялся, отходил от этого, а потом следующий мир… Это было очень хаотично, и от этого я, конечно, уставал.
И сейчас для меня как раз важен поиск баланса между постоянством, регулярными шагами, ритмом и в то же время разнообразием жизненных тем. Тогда мне это приносит удовлетворение.
Ну и пока то, что ты сказала о хаосе и порядке, как-то сочетается внутри этого моего мира. Хаос как бы включён в порядок. А порядок, соответственно, часть большого хаоса.
Где ещё мой хаос?
Например, вот тут – стол, за которым я сижу: в нём имеется ящик, и в ящике этом просто ужас что творится.
В моём компьютере также достаточно много хаоса… И, понимаешь, я не очень-то хочу это упорядочивать, потому что, боюсь, если я там всё упорядочу, разложу по полочкам и мне, безусловно, будет легче находить материал, то, возможно, я что-то потеряю с тем местом, где черпаю энергию, а черпаю я её в хаосе.
Как минимум у меня есть этот страх, хотя, возможно, он и ложный. Но мне всё-таки важно сохранять определённое количество хаоса в жизни.
В. В.: Да, он начинает вылезать в неожиданных местах. Но если ты его начинаешь сохранять в определённых местах, говоришь: “О’кей, здесь у меня будет жить хаос”, – тогда ты оставляешь это под своим контролем, как бы парадоксально это ни звучало.
А если ты всё упорядочила, хаос может пробиться там, где ты его не ожидаешь и где он неуместен совершенно, и там он будет вредить и мешать.

Фотография: Sveta Minaeva.
Прежде чем стать никем
В. В.: Где-то с десяти лет я заинтересовался сознанием человека и вообще экзистенциальной человеческой ситуацией, и с этого момента начался мой путь исследования жизни и сознания.
Можно сказать, что он шёл в двух больших направлениях.
Одно условно можно назвать путём в психологию, в западный подход, где важна личность, эго, “я” – как отдельность, как деятельное существо, как создатель своей жизни.
Другое направление – духовное, то, что мы называем “духовным путём” и “духовными практиками”, в которых важен поиск себя, не отделённого от мира, жизни как целого. И в этой сфере я ходил по многим традиционным “духовным дорожкам”: буддизм, даосизм, йога, суфизм.
В каких-то аспектах два этих направления противоречат друг другу, потому что психология хочет нас собрать, интегрировать эго, чтобы мы могли как личности жить счастливей и эффективней в отношениях с другими личностями, с окружающим миром, чтобы мы меньше страдали. А духовные школы вроде как говорят об избавлении от этой личности, о прозрачности личности, “я” становится идентично Богу или Духу – тому, что едино со всем. В каком-то смысле это о растворении личности.
И тут много путаницы бывает у людей: что это вообще значит – растворение личности – человек становится куском тофу без цвета и запаха, что ли?
Даже если мы посмотрим на известных духовных учителей (я встречался, когда ездил в Индию и прочие страны Юго-Восточной Азии, с кем-то, кого считают просветлёнными), каждый из них очень проявленная личность. Со своим ярким характером. Это не кусок тофу, это очень характерный человек. Он может быть острым, солёным, жёстким, мягким, но он всегда очень своеобразный, уникальный.
Если взять величайших учителей адвайта-веданты, например Рамана Махарши – мягкий, спокойный, созерцательный, милый. Хотя даже и про него говорят, что когда он приходил на кухню в своем ашраме, то часто орал на сотрудников, которые там как-то неправильно резали овощи.
Но в целом его образ такой, что он лежит на своей кроватке весь благостный, его обмахивают опахалом, сдувают с него пылинки… Ну, это когда он уже старым был.
А второй известный учитель – Нисаргадатта Махарадж, жил в шумном Бомбее и был этаким противным дедом. Всю жизнь он проработал в лавке, торгуя какими-то папиросами-самокрутками, и у него действительно был ужасный характер, он всё время орал на учеников, унижал их, выгонял. Вот, пожалуйста, совершенно другое проявление “духовности”.
И мне кажется, очень часто мы хотим растворения себя, потому что слишком невыносимо быть с собой таким, как есть, со своим “я”, которое соткано из противоречий, боли, травм.
Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали – с разбитой чашки, которая разбита очень определённым образом.
Однако, когда мы проходим процесс исцеления, когда мы склеиваем чашку, мы получаем её такой, какая она есть – с уникальными трещинами и уникальной красотой. И мы также получаем личность с её уникальной болью, с уникальными травмами, которые являются нашими достоинствами в силу своей уникальности.
Такая вот парадоксальная ситуация.
Если мы глубинно принимаем все эти особенности, в том числе какие-то черты, которые мы считаем негативными, и говорим: “Да, это моя особенность, я такая личность, такие трещины проходят по мне, но через них проходит свет. Через них светит свет – именно через эту мою индивидуальность”, – тогда снимается дихотомия между духовной и личностной практикой.
Тогда Дух как будто бы воплощается в форму.
Мне очень нравится слово “воплощается”.
У китайцев есть такое выражение: “Благородный муж соединяет Землю и Небо”. “Муж” – имеется в виду благородный человек.
В этом и состоит идея: есть Небо как Дух, мир идей, мир абстракций, образов и всего, что мы можем отнести к сфере Духа, – и он воплощается в конкретной форме. В телесной форме. На этой земле. В этой материи. В каком-то смысле наша задача – дать Духу плоть, позволить этому проявиться, хотя бы не сопротивляться этому.
И эта фраза Энглера, которую ты привела (но не только он об этом говорил, кстати), на мой взгляд, о том, что, если вы не хотите уходить жить в пещеры и не хотите превратиться в радужный свет, а хотите жить на этой земле, вам нужно и то и другое.
Вам нужно проявить себя как личность здесь и позволить через эту личность проявиться Духу. Я это понимаю так.

Фотография: Annie Petrosian. С моим другом Константином, в Киеве.
Дзэн в отношениях
В. В.: Те же самые принципы. Важно затихнуть. Важно заткнуться.
Есть хорошая книга одного из современных учителей дзэн Брэда Уорнера (он панк по жизни, играл в панк-группе), и он говорит: “Дзадзэн – это когда ты садишься, затыкаешься и просто слушаешь”. И книгу он назвал: Sit Down and Shut Up (“Сядь и заткнись”).
В отношениях это очень важно: заткнуться и слушать, что другой скажет, потом ответить, потом опять послушать.
В первую очередь, важна внимательность, тишина, прислушивание и, действительно, намерение услышать себя и другого.
Потому что у вас ведь всегда имеется собственное мнение по поводу всего на свете, но тут надо бы взвесить, что для вас важнее – мнение или сами ваши отношения?
И если мы решаем, что важно сохранять и развивать эти конкретные отношения, то почему бы не превратить слушание другого в духовную практику?
Просто слушать, что собеседник говорит мне, и так же прислушиваться, какой именно у меня на это возникает отклик – из какого места моей души он приходит.
Часто, если я внимателен, я обнаруживаю, что мои выводы рождаются из моих убеждений.
А они на чём основаны?
На моём опыте.
Но ведь у неё-то совсем другая жизнь была, у неё-то (или у него) совсем другой жизненный опыт… И вот это соотнесение, напоминание себе, что у каждого своя история и что единственное, что мы можем, – это научиться договариваться, – очень важно.
Для меня в этом, прежде всего, заключаются качественные отношения.
И второе – это определённая эстетическая характеристика.
Как я уже говорил, в дзэн для меня чрезвычайно важна эстетика, искусство, и вот если у меня имеется чашка с определённым рисунком прожилок, трещинок, то я ведь могу любоваться этой чашкой, правда?
Точно так же я могу любоваться другим человеком. Тем, кто живёт рядом со мной. У него такие трещинки, такие уникальные прожилки. Его жизнь здесь, рядом со мной, раскрывается, как искусство. Он живёт рядом со мной, и я могу этим любоваться – только важно вспоминать об этом.
Существует такая дзэнская эстетическая характеристика – ваби-саби, во многом она об исчезновении всего, об эфемерности жизни.
И в этом есть определённая щемящая красота – ты начинаешь ценить жизнь больше, когда вспоминаешь, что она закончится.
Когда ты любуешься опадающими лепестками вишнёвого дерева, ты любуешься одновременно и этой нежной красотой, и её исчезновением.
Это происходит одновременно и вызывает объёмные, сладко-горькие чувства.
Лично для меня очень важно помнить о смерти – о своей, других – самых близких – и смерти отношений также. Любые отношения когда-либо заканчиваются: либо кто-то из нас умрёт физически, либо мы разойдёмся как-то по жизни в разные стороны и тогда отношения умрут.
Мы всё это знаем, это банальность, но помним ли об этом в своих непосредственных отношениях прямо сейчас, в отношениях с человеком, с которым прожили, может быть, 15 лет?
Всё завершается, всё имеет свой конец. Но если вернуться к эстетике дзэн, вспомнить о сакуре, которая цветёт всего несколько дней, то какая же в этом красота неимоверная… ускользающая красота.
Знаешь, мои любимые стихи японского поэта Иссы такие:
Наша жизнь росинка.
Лишь капелька росы.
И всё же…
В этом “и всё же…” очень много сказано. В этой пустоте после “и всё же…”.
И так же в отношениях.
Я знаю, что эта капелька росы высохнет. И всё же…
Прямо сейчас – это такой пронзительный момент.
Я вспоминаю об этом и начинаю больше ценить эти конкретные отношения прямо сейчас.
Ну и следующий дзэнский эстетический принцип – несовершенство.
Никогда мы не будем совершенны друг для друга.
Принятие друг друга со всеми особенностями, трещинками, такого неидеального – это очень важно для здоровых отношений, как мне кажется.
Не идеализирование другого, но в то же время и не принижение его, а видение так, как есть.
И, как я много раз уже сегодня повторял, любование, получение удовольствия от всех этих трещинок, особенностей характера, несовершенностей – вот что для меня важно.
А ещё важно сочетание того, что я делаю, создаю волевым актом, и того, что просто случается.
Мне нравится испытывать удивление от того, что постоянно возникает что-то новое. В том числе в отношениях с другим человеком – с партнёром.
Мы, например, с Мадлен, много играем с этим балансом случайности и целенаправленного действия.
В нашей повседневной жизни часто появляются какие-то новые темы для обсуждений и проживания – то серьёзное что-то, про политику и социальные проблемы, а то кошки какие-нибудь.
Или мы начинаем друг друга странными именами называть.
Обычно эти темы появляются просто из жизни – из простого разговора, из прочитанной статьи, из фильма, из погоды на улице, – это проявляется неожиданно и как бы случайно, но это можно подхватить и превратить в игру, развить в диалоге или в каких-то делах.
Так, например, рождались многие мои облачные ритриты и другие программы. В общем-то, это о том же, о чём я уже говорил – вскочить на очередную волну и прокатиться на ней.
В. В.: Понятно, что я сейчас несколько идеалистичную картинку нарисовал, а жизнь ещё и обыденная. Но мы ведь можем вспоминать об этом, не так ли?

Фотография: Sveta Minaeva.
Блиц
В. В.: Ну, вот это я точно не знаю. Мой ответ: не знаю. И для меня это очень важно. Это не негативный ответ, это позитивный ответ. Я не знаю, и очень этому рад. Я доволен, что не знаю.
В. В.: Может быть, с Рамана Махарши и Нисаргадаттой Махараджем. Ещё мне очень нравится Доген, Алан Уотс, да много кто, если начать вспоминать. Но вот сейчас эти пришли на память, с этими людьми я бы с удовольствием пообщался, хотя бы послушал их.
В. В.: “…посиди, сделай паузу”. Это достаточно очевидно для меня, да? (Смеётся). Ну, вот правда, для меня это работает.
Если есть возможность, конечно. Ведь бывает, что надо на что-то быстро реагировать. Но в большинстве ситуаций в моей жизни есть такая возможность – не дёргаться, посидеть и просто побыть. Сделать тихую паузу. Это работает.
В.В.: Боюсь смерти самого близкого мне человека. В том смысле, что я не хочу этого, очень не хочу. Но это такой страх, который со мной. Я с ним соотношусь, мы это обсуждаем регулярно, я представляю себе, как это может произойти, в целом я готов к этому, насколько можно быть к такому готовым… но я этого очень не хочу.
В. В.: Есть несколько ситуаций, где я повёл себя некрасиво, где я предал – в первую очередь, себя, свои ценности. Вот сейчас я изменил бы это. Не хочу об этом рассказывать, потому что это касается других людей, но несколько таких ситуаций у меня было в жизни и я бы хотел их изменить, если была бы возможность.
Глядя на них, я вижу, что в будущем уже так не сделаю. Очень постараюсь не повторять этого.
В. В.: Наверное, о любви и о том, что по большому счёту всё хорошо с жизнью.
Что есть какая-то глубинная основа в жизни, где всё хорошо. Она ни от чего не зависит – ни от боли, ни от страданий, ни от смерти, ни от потерь. И на эту глубинную основу можно опереться.
И что я здесь не один.
Это присутствие чего-то тайного, невыразимого и в то же время того, что я могу почувствовать.
Я чувствую, что не пришёл сюда как отдельное от источника жизни существо. Что я соединён, я вместе с этим.
В моей жизни был период, когда я чувствовал какую-то свою заброшенность, отделённость, но на сегодняшний момент я знаю, что я более-менее прожил это и соединился с глубинной основой существования.
Хотя какая-то часть всё ещё остаётся в том состоянии “заброшенности в мир”.
Это, опять же, парадокс: с одной стороны, мы чувствуем себя гостями в этом мире, “не от мира сего”, и в то же время мы глубинно соединены с существованием, с жизнью. И это одновременно.
Принятие этого парадокса, этой цельности для меня является очень важным переживанием.

Фотография: Annie Petrosian.
Рубрика
Подлинная Жизнь
Подкасты
Подлинная Жизнь
Музыка, используемая в подкасте:
Света Минаева
Карпатский чай
Peter Christopherson
Be Happy
Sammy Davis
I’ve Gotta Be Me
Pomplamoose
The Goodbye Song

Фотография: Kseniya Shpakova.
Лена Олешкевич – журналист, сценарист, редактор. Автор проекта “Интегральный подход к написанию текстов”, в котором ремесленные писательские приёмы соединяются с телесной работой и практиками внимательности.
Её страница в фейсбуке:
Elena Oleshkevich
Её недавняя статья в The Village о практике осознанности и секулярной медитации:
Спокойствие, только спокойствие
Что я ещё предлагаю от себя
Если вам интересна практика, то зайдите на страницу
Школа Будда в городе
и посмотрите, чего там есть (а там уже много чего есть – что-то бесплатно, что-то за разумные деньги –Denarii sapiens, так сказать).
Или на страницу
Будда в городе в фейсбуке. Там я пощу всякие полезные и вдохновляющие материалы.
Вы так же можете вступить в Облачную сангху, для поддержания свой практики.
Подписаться на рассылку и получить бесплатное
Краткое руководство по Практике Осознанности
Подписаться на мой канал в Телеграм:
t.me/buddhavgorode
А если хотите сделать практику медитации повседневной полезной привычкой, присмотритесь к программе
90 дней

Фотография: Madeleine Lamou.
Всего вам доброго, и надеюсь, до следующих встреч.
И помните: в каждое мгновение у вас есть выбор – сделайте лучший.
А теперь идите и медитируйте!
![]()

